



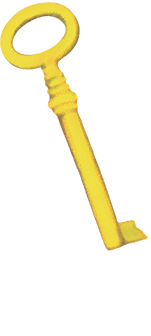
 назад
назад
Ипотечная система, выстроенная в Российской империи во второй половине XIX столетия с учетом прошлого опыта и неудач, была эффективной, выгодной для всех участников процесса и вполне жизнеспособной. Но век ее (а точнее, полвека с хвостиком) оказался недолгим. И не в самой ипотеке дело — пролетарская революция, прогремевшая в октябре 1917-го, перевернула с ног на голову вообще все. Тем не менее в СССР временами существовало некое подобие ипотеки, хотя сам государственный строй, казалось бы, исключал ее в принципе.

В чистом виде ипотека в Стране Советов была невозможна ввиду отмены частной собственности: если недвижимость тебе не принадлежит, взять под ее залог деньги ты не можешь. В советских словарях ипотека называлась «пережитком капитализма», а возможность ее существования в СССР категорически исключалась. Потребность же в чем-то подобном была острой, особенно в 1920-е годы, когда формировался новый уклад жизни.
Пролетариату требовалось жилье: после революции жилой фонд находился в печальном состоянии, а «уплотнения» бывших буржуа, от которых страдал булгаковский профессор Преображенский, проблему не решали. К тому же курс на развитие промышленности приводил к росту городов и необходимости строительства новых рабочих поселков.
Появляться жилищно-строительные кооперативы начали тогда же, в 20-е. Строительство вели на коллективных началах, а кредитование застройщиков поручили Центральному банку коммунального хозяйства и жилищного строительства. Поставили задачу: увеличить долю кредитов, которые должны были идти на нужды кооператоров. Максимальная ставка по таким кредитам составляла всего 1% (в реальности процент мог быть — и чаще всего был — еще ниже). Льготными сделали и условия погашения кредита. В первые годы платежи были совсем небольшими, а в последующие — постепенно увеличивались. Предполагалось, что доходы граждан со временем вырастут, а затраты на возведение и эксплуатацию домов, наоборот, сократятся. При этом размер ссуд обычно составлял около 90% от стоимости строительства. Стоимость квадратного метра жилья, естественно, не формировалась рыночными средствами, а назначалась правительством и варьировалась в зависимости от региона. А вот срок, на который предоставлялся кредит, зависел от типа здания: для каменных домов — 60 лет, для деревянных — 45.

Система, однако, просуществовала значительно меньше этих сроков. Уже в 1930-е годы, после сворачивания НЭПа, в такой программе кредитования власти увидели ростки частной собственности. Все жилищно-строительные кооперативы признали вредными и в 1937 году ликвидировали. А дома, которые успели построить кооператоры, объявили всенародным достоянием и перевели в собственность государства.
В следующий раз к проблеме отсутствия жилья вернулись уже после войны, во времена хрущевской оттепели, когда резко возросла численность городского населения.

В 1958 году постановления ЦК КПСС и Совета министров вернули жилищно-строительные кооперативы из забвения. Вступавшие в них граждане также строили жилье за свой счет, получая от государства ссуду. Условия были не так шикарны, как в 20-е годы, но тоже хороши. Сумма достигала 70% от стоимости строительства, а срок кредита мог составлять до 20 лет. В дальнейшем власти еще несколько раз (с начала 60-х до конца 80-х годов) издавали постановления, целью которых было стимулирование кооперативного строительства, поскольку бесплатного жилья по-прежнему не хватало: многие коммунальные квартиры не расселены до сих пор.
Во-первых, члену кооператива все-таки нужно было где-то найти оставшиеся 30% средств. Учитывая общее финансовое положение советских людей, можно догадаться, что это было под силу, мягко говоря, не всем. Недаром кооперативная квартира стала одним из атрибутов зажиточной жизни наряду с дачей и личным автомобилем. Во-вторых, вступая в кооператив, пайщик автоматически терял место в очереди на получение бесплатного жилья от государства, поскольку считалось, что оно ему больше не нужно. Вот почему многие из тех, кто располагал необходимой стартовой суммой, не спешили с ней расставаться, предпочитая ждать «подарка» от государства.